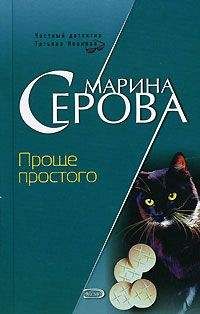Юлиу Эдлис - Ждите ответа [журнальный вариант]
Сухарев хозяйским жестом отмахнулся от официанта, тот недоуменно посмотрел на Иннокентия Павловича, но послушно отошел от столика, философ же поудобнее откинулся на спинку стула, продолжил как ни в чем не бывало:
— Я знаю на Руси за всю ее историю лишь одну несомненно, доподлинно русскую и к тому же именно что национальную идею. Вы хоть краем уха слышали о Федоре Николаевиче Федорове?
— Признаться, не слыхал. К тому же фамилия такая же распространенная, как Иванов…
— А ведь фигура замечательная, второй такой не сыскать не то что в русской, а и в мировой философии и мифотворчестве по оригинальности, смелости и независимости мысли. Да он сейчас, после векового забвения, даже в моду вошел, только и толков — Федоров, Федоров… Вон даже я сподобился о нем книгу написать, а с вашей помощью, может быть, и издам…
— Стало быть, ваша книга об этом самом Федорове? — разочарованно спросил Иннокентий Павлович, разом потеряв всякий интерес к сидящему напротив него самозваному мыслителю.
— Но не о скромном и неприметном библиотекаре в Румянцевском книгохранилище, правда, ставшем в свое время благодаря ему средоточием московской мысли и духовной жизни, а именно о его идее! А уж идея его так всеохватна и на все времена, что в одной книге объяснения ей не найти, не охватить ее вселенского величия, где уж мне, сирому и серому! И именно что русская, национальная, ни у какого другого народа она и родиться бы не могла. Силенок, воображения, дерзновенности мысли ни у каких европейцев не хватило бы, кишка тонка!
— Так в чем же она, эта необыкновенная идея? — уж и вовсе из одной вежливости поинтересовался Иннокентий Павлович.
— А в бессмертии человечества! В том, что всеобщей, всечеловеческой взаимной любовью в высшем смысле этого слова можно воскресить всех живших прежде на земле людей, наших отцов и отцов наших отцов до первого, корневого колена, сделать их столь же живыми и в добром здравии, как мы с вами. И не будет тогда ни смерти, ни страха перед нею, ни забвения предков и родового нашего прошлого, а уж там и всеобщее бессмертие восторжествует. И отныне мы будем присно и во веки веков рядом, живехонькие. Тут, правда, еще некие космические лучи, по его мысли, потребуются… — Усмехнулся с некоторой как бы усталостью. — Конечно, я вам, как человеку непосвященному и, уж не сердитесь за прямоту, непросвещенному, излагаю ее так, чтобы вам проще было понять, в чем она, эта идея федоровская, а захотите глубже в нее проникнуть — почитайте его самого или, на худой конец, хоть мою книжицу пролистайте.
— Непременно, — пообещал Иннокентий Павлович, — само собою. — И вдруг как раскаленной иглой прожгло мозг: так, может быть, в ней-то он и найдет пусть и не разгадку тайны, с которой столкнулся лоб в лоб в старинном доме на Покровке, так хоть намек на нее? И не удержался, проговорился: — Выходит дело, вхожу я, скажем, в тот же особняк, в котором, по вашим словам, вы недавно еще сами жили, и все его обитатели за двести с лишним лет, сколько он стоит, окажутся живыми и не удивятся моему визиту? — Взял себя в руки, устыдившись этой своей нелепейшей мысли. — Это я так, к слову… А почему, вы говорите, эта его идея — чисто русская, национальная?
— А потому, — с внезапной печалью отозвался Сухарев, — что недосягаема, невоплотима… Как мечта о Царстве Божьем на земле, в земной нашей юдоли, или о Граде Китеже, или же как та же слепая вера в брутальный всеобщий коммунизм… Недостижимость, недосягаемость, материальная невозможность осуществления на деле всех идей, потрясавших нашу историю из века в век, — это особое, присущее только русскому человеку свойство души.
— Недостижима — зачем же она? Идея, не ставшая чем-то материальным, осязаемым, — в чем смысл?!
— Чтоб душа жива была! — решительно отрезал Сухарев.
— А вы-то сами в нее верите? — спросил в упор Иннокентий Павлович, полагая, что тем загнал мыслителя в угол.
— Я вам отвечу не своими словами, а из святых отцов, хоть и католических: «Верую, потому что нелепо», лучше, точнее и всеобъемлюще не скажешь. И вдумываться в это — безнадежное дело. Верить или не верить, это вовсе не то что поверять истину сиротской нашей мыслью. Впрочем, — прибавил он не сразу, — есть, пожалуй, и еще одна, вторая…
— И какова же вторая? — уже безо всякого живого интереса спросил Иннокентий Павлович.
— А вторая, — без запинки отозвался Сухарев, — являет собою полнейшую противоположность первой. Потому хотя бы, что она вполне осуществима на деле, более того, на ней вот уже второе тысячелетие зиждется, можно сказать, вся история, да что там история — судьба нашего богоспасаемого отечества. Ее первым выразил — правда, в ироническом, даже, пожалуй, анекдотическом изложении, как это всегда у него: смех сквозь невидимые миру слезы, — величайший из наших национальных гениев. Я имею в виду конечно же Николая Васильевича Гоголя. И имя ей — чтобы упростить проблему — унтер-офицерская вдова.
— Та самая, что сама себя высекла? — счел необходимым не ударить в грязь лицом Иннокентий Павлович.
— Она-с. Она самая! — с серьезнейшим видом согласился с ним Сухарев. — То-то спокон века и делаем, что сами себя сечем отечественной же лозиной. Это нам уж так на роду написано. Ведь что такое были и Пугачев, и Разин, и бунт за бунтом, один бессмысленнее и беспощаднее другого, не говоря уж о цареубийствах, несть им числа, и Савинков со товарищи, и обе наши бездарнейшие революции, да и третья, нынешняя, тоже, хоть, казалось бы, и бескровная, как не самобичевание в отместку самой себе за вековечную, неистребимую, но и неисполнимую мечту об обетованном именно одной ей, России, блистательном, высшем среди всех прочих племен и народов будущем? И при этом свято верить, что это не она сама себя сечет, а чужестранцы, инородцы, слепой рок или самолично Господь Бог — этим-то как бы объясняется и искупается первородный наш грех.
— В чем же он первородный-то? — перестал что-либо понимать сбитый с толку Иннокентий Павлович.
— А именно в том, что мы ничего иного так истово себе не желаем, как одного только несбыточного, неосуществимого!.. И — вот что глупее всего! — все ищем и ищем в нем, в этом неизрекаемом, мечтательном, то, что вы изволите называть национальной идеей, которая тем нам прельстительнее, чем менее похожа на какую- либо другую, на иной путь, не нам одним обетованный, а и прочим племенам и народам. Неизбывное тяготение к вымечтанной нами на тысячелетней, как у Ильи Муромца, печи Василисе Премудрой, которая, если хорошенько продрать глаза, всякий раз оборачивается не кем иным, как привычной нашей Бабой Ягой на куриных ножках со скипетром и державой в когтистых лапах. Мы — вот она, вторая-то! — другие, чем все эти прочие, и этим уже выше и лучше их всех, а за это не обидно и березовых веников время от времени испробовать. А в итоге просыпаемся с жестокого похмелья все той же унтер-офицерской вдовою, свято верящей, что повезет же в кои-то веки Руси на доброго и справедливого городничего, который и без розог обойдется. Вот она, вторая-то идея! И, в отличие от первой, этот эксперимент над собственной задницей можно производить сколь душе угодно. Анекдот, скажете вы?.. А я и соглашусь. Анекдот, кабы не судьба. Впрочем, может статься, и всего-навсего стародавняя привычка, ставшая второй натурой. Не знаю, как вы, молодой человек, но и первая, и вторая, по вашему выражению, национальные идеи не кажутся мне продуктивными. А искать по высочайшему повелению третью — еще менее. Наберемся терпения и смирения, глядишь, она, третья-то, и сама нам явится. И, пожалуйста, без ваших мятежей и революций… Небось вы тоже из решительных реформаторов в душе?.. А вот вспомните-ка лучше того же Николая Васильевича: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ». И прибавляет национальный наш гений: «Не дает ответа». Каково, а? И опять же приходится набраться терпения и смиренности, как в случае, когда слышим по телефону голос автоматической барышни: «Ждите ответа, ждите ответа…» Потому что, пораскинувши мозгами, понимаем, что ничего нам не остается, как ждать… — И вдруг бодрым голосом заключил: — А вот и дождемся, смею вас заверить!
И, не поинтересовавшись реакцией Иннокентия Павловича на это свое неожиданное резюме, заторопился, встал из-за стола:
— Простите, совсем запамятовал о встрече одной, сам назначил и сам же забыл. Спасибо за обед, давно так роскошно не ел. А решите дать деньжонок на издание моего труда — премного буду благодарен. А засим всего вам наилучшего. — Надел свою «адидасовскую», на рыбьем меху, куртку, пошел было к двери, но обернулся и сказал через плечо уж и вовсе таинственно и непонятно: — И — дождемся! Верю, представьте, Федорову. Верю, хотя и, несомненно, нелепо. — И след его простыл.
А Иннокентий Павлович остался один за столом, и из головы не шла еще и эта свалившаяся на него загадка, и бередила нелепая мысль: а что, если в эту федоровскую нелепицу и вправду поверить?..